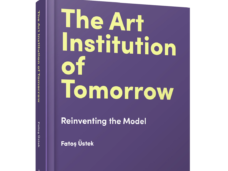В ГМИИ им. Пушкина проходит выставка «Голоса воображаемого музея Андре Мальро«. Как известно, «Воображаемый музей» – это эссе Мальро, написанное в 1947 году о том, каким должен быть идеальный музей, объединяющий различные стили и эпохи. Спустя более полувека идеи Мальро были впервые воплощены в реальной музейной экспозиции – более двухсот произведений из ведущих мировых собраний прибыли в Пушкинский музей. И сейчас, когда выставка подходит к концу и «воображаемый музей» вновь превратится в идею, нам показалось важным зафиксировать ключевые моменты работы над проектом глазами одного из тех, кто под руководством Ирины Антоновой работал над экспозицией, узнать профессиональные моменты, которым не уделялось достаточного внимания в других приуроченных к данному событию интервью.
Обозреватель Artandyou.ru Елена Рубинова встретилась с Данилой Алексеевичем Булатовым, научным сотрудником ГМИИ им. А.С. Пушкина, хранителем коллекции восточноевропейской и немецкой живописи XX века, членом кураторской группы выставки «Голоса воображаемого музея Андре Мальро», чтобы узнать, как шла работа над проектом.
Это не первое обращение Пушкинского к концепции «воображаемого музея» Андре Мальро. Именно так называлась выставка 2012 года, приуроченная к 100-летию музея. Можно ли нынешний проект назвать вторым пришествием «воображаемого музея» и насколько она опирается на предыдущий опыт?
Данила Булатов: В какой-то степени можно воспринимать ее как продолжение выставки 2012 года, хотя тогда экспозиция была организована по совершенно другому принципу – интеграции «гостевых» шедевров в постоянную коллекцию. Пожалуй, общее у этих выставок заключается только в методе соединения в одном пространстве привозных вещей с экспонатами из нашего собрания – последним это всегда идет на пользу, а для некоторых вещей (и отнюдь не безынтересных) это шанс покинуть запасник. В этот раз музей обратился не только к идеям Андре Мальро и его концепции искусства, но и к личности этого выдающегося человека. Большой документальный и биографический раздел занимает целый зал: обложки и экземпляры книг Мальро на разных языках, раритетные издания и рукописи, многочисленные фотографии Мальро – путешественника и коллекционера, участника Сопротивления, а позднее государственного и общественного деятеля времен де Голля. Некоторые идеи Мальро, несомненно, очень близки Ирине Александровне, в этом смысле она не просто была с ним знакома, но в какой-то степени даже воспринимает себя преемницей ряда его идей, в том числе понимания им искусства как «антисудьбы».
Ирина Антонова часто цитирует слова Мальро, что «искусство существует благодаря тому, что помогает людям избежать их удела».
Замысел провести такую выставку возник не в одночасье, и готовились к ней почти три года. Несколько лет назад во Франции возникла идея создать фонд Мальро, который в итоге не образовался, но зато благодаря этому возникли хорошие связи с Флоранс Мальро, дочерью Мальро, и с Франсуа Сен-Шероном – профессором Сорбонны и главным специалистом по Мальро, который выступил в качестве консультанта и вдохновителя нынешней выставки. На открытие приезжал и Ален Мальро, приемный сын Мальро, выросший в его доме. Все эти обстоятельства, как и личный авторитет Ирины Александровны, конечно, во многом определили тот факт, что такая выставка оказалась возможна.

Считаете ли вы, что идеи Мальро, сформулированные еще в середине XX века – в 1947 году, догнали время и потому звучат актуально? Насколько идеи Мальро уникальны и чем они ценны для нас?
Данила Булатов: Самые революционные идеи Мальро, пожалуй, связаны не столько с музеем, сколько с медиумом фотографии и тем, как его можно использовать. Фотографии Мальро придавал огромное значение, считая, что она не подменяет подлинник, но помогает увидеть скрытые связи между предметами и встроить отдельные произведения искусства в более широкий контекст. Мальро осознанно использует манипулятивные возможности фотографического медиума для объединения вещей в группы, открытия внутренних связей зачастую между весьма далекими явлениями. Открытые авангардистами начала века (в частности, дадаистами) возможности фотографии по конструированию новой реальности позднее были в полной мере реализованы тоталитарными системами в сфере визуальной пропаганды. Мальро пользуется этим для своих целей, главная из которых – утверждение неких универсальных принципов искусства, творческой креативности вообще, существующей вне исторических или географических привязок.

Фигура Мальро привлекательна еще и тем, что он, не будучи специалистом в какой-то определенной сфере искусства, сформулировал антидогматичные принципы обращения с художественным материалом.
И тогда, и сейчас они помогают взглянуть на вещи шире, служат важным «мостиком» для популяризации художественных смыслов среди самой широкой публики, и в этом плане его роль, конечно, очень важна. Интересно, что в этом году в Париже проходила выставка «Carambolage», которую курировал Жан-Юбер Мартен и которая, возможно, в каком-то виде будет реализована и у нас в Пушкинском. Честно признаюсь, что я не был на самой выставке в Гран Пале, но слушал его лекцию у нас в Москве и видел фотографии с выставки, и меня поразило, насколько его метод работы перекликается с тем, что предлагал Мальро.
Сама идея того, что искусство, представляя собой открытую систему смыслов, может существовать не только в рамках своего контекста, но выходить далеко за него, взаимодействовать с неожиданными, в том числе нехудожественными артефактами, далеко не исчерпана.
И здесь Жан-Юбер Мартен идет по следам Мальро и соединяет в одном пространстве как вещи, традиционно возводимые в ранг искусства, так и предметы, никогда прежде не попадавшие в эстетическое поле.
Можно ли считать Мальро визионером современной музеологии? В какой степени современные музейные практики – характер приобретений, сопоставлений, репрезентации – продолжают идеи Мальро?
Данила Булатов: В книгах он размышлял много о чем, но назвать его революционером музейного дела сложно, поскольку непосредственно о музеях он почти не писал, в основном все его тексты были все-таки посвящены искусству разных эпох. Мальро – человек своей эпохи, очень тесно с ней связанный. Он вышел из идей модернизма, взращенных XIX веком и получивших свое воплощение в XX веке, и в какой-то степени он даже консерватор, потому что искусство для него как раз немыслимо вне музея, хотя бы и «без стен». Его позиция была во многом двойственной: провозглашая абсолютную свободу и независимость, «незашоренность» взглядов, он в то же время исходил из парадигм европейской культуры, всегда оставался европоцентристом. Его любовь и интерес к искусству Африки или Океании скорее можно сравнить с любовью и интересом Поля Гогена, для которого не представляли никакого интереса различия между культурами аборигенов. Со второй половины XX века подобный колониальный взгляд активно критикуется, как и тот принцип, согласно которому произведения, происходящие из внеевропейских цивилизаций, насильно изымаются из своего контекста и оказываются подчинены универсальным принципам музейного экспонирования, уничтожающим их культурную и региональную специфику.
Музей выступает в роли своеобразного репрессивного органа, институции, которая пытается все систематизировать и упорядочить. В этом вся неоднозначность самой концепции «воображаемого музея».

С одной стороны, есть определенное освобождающее значение в указании на «воображаемые» межкультурные связи, в утверждении принципиальной «открытости» любого произведения для «диалогов» и интерпретаций; с другой стороны, «музей» подразумевает, что мы это все кодифицируем, каталогизируем и устанавливаем какие-то барьеры. На нашей выставке мы постарались избежать любого догматизма и выдержать баланс между линейным историческим взглядом (традиционным для музеев) и предлагаемым Мальро принципом сопоставления. Возможно, благодаря этому выставка получилась более научной и строгой, чем могла бы быть, но мне представляется, что это даже хорошо – ведь в наши задачи не входило утвердить принципы Мальро как единственно возможные, а дать пищу для размышлений, рассмотреть их всесторонне, в том числе и критически.
Известны ли попытки воплощения идеи «воображаемого музея» Мальро в других странах?
Данила Булатов: Все, что Мальро сам организовывал, как, например, масштабную выставку 1973 года в Фонде Маг (Сен-Поль-де-Ванс), которая во многом стала прообразом нашей нынешней выставки, было достаточно традиционным. Сохранился каталог, из которого очевидно, что туда были включены различные тематические блоки – искусство Китая, Океании, африканское искусство, европейское Средневековье, но, судя по всему, не было столь явной попытки найти параллели или пересечения между ними. Просто то, что он любил и ценил больше всего, экспонировалось в одном пространстве. В этом смысле мы пошли дальше, сопоставляя разные контексты и разные произведения из разных эпох именно рядом, как он это делал в своих книгах.
Мы живем в системе, которая является не культурной, а информативной. Потому что культура – это система образования и воспитания, а обмен информацией – почти что товарооборот. Не противоречит ли нынешняя информационная система концепции «воображаемого музея» Мальро? Ведь для того, чтобы отслеживать диалоги и пересечения, зритель как минимум должен знать пласты культуры? Или главное, чтобы куратор все выстроил?
Данила Булатов: Выставка, конечно, имеет несколько слоев понимания, но я бы не сказал, что она очень сложная для зрителя. Здесь довольно много объяснительного материала, ну и есть какие-то вещи, которые схватываются довольно просто на интуитивном уровне, – понятно, что когда мы рядом показываем работу Жоржа Руо, а рядом висит картина испанского художника XVI века и обе посвящены страданиям Христа, то зритель сам ищет какие-то параллели или связи. А кроме того, это нормально, когда
выставка не дает ответы на вопросы, а скорее побуждает думать и задавать вопросы, в том числе и о возможности таких сопоставлений, о колониальном взгляде, о том грузе культуры, который давит на европейского человека.

Последнее обстоятельство, кстати, является одной из причин возникновения самой концепции «воображаемого музея». Человек европейской культуры потому и начинает активно тянуться к другим эпохам и культурам, что он воспринимает многовековой багаж своих культурных представлений, и при этом ему свойственна открытость и толерантность к другим мирам, как характерное свойство европейской, в том числе и французской традиции. Внедрение первобытных культур, включенность колониальных систем в тело европейского искусства становится частью европейского культурного кода. Никакая другая культура, кроме европейской, такой открытостью не оперирует.
Топ-10 удобных сайтов с коллекциями ведущих мировых музеев в открытом доступе. Читать далее.
Что касается нынешней информационной системы, то она вовсе не противоречит концепции «воображаемого музея» Андре Мальро. Скорее наоборот, в какой-то степени из нее вытекает. Воплощение концепции Мальро в виртуальном пространстве было бы сегодня, пожалуй, самым адекватным способом выразить его идеи.
Другое дело, что зритель в этом случае лишается не только возможности увидеть подлинники, но и критически оценить предлагаемые сопоставления, а также выстроить собственные линии сравнений. В отличие от той же книги, где есть единственная точка зрения – авторская, выставка предполагает активное вовлечение зрителя в создание смыслов. Но в этом и есть педагогический и, раз уж вы об этом говорите, культурообразующий смысл музейной деятельности.
Как родилась рубрикация выставки по разделам – «Многоликая древность», «На пути к модернизму», «От сакрального к идеальному», «От идеального к реальному», – когда стало понятно, какие произведения приедут в Пушкинский? Эти «голоса», звучащие в кураторской концепции, помогают зрителю ориентироваться?
Данила Булатов: Работая над этой выставкой, мы шутили, что Мальро позволяет каждому куратору найти в его идеях что-то близкое для себя лично, и именно этим он очень хорош. Так, куратор, отвечавший за разделы в Белом зале, Марина Ильинична Свидерская, в определенном смысле выстроила экспозицию более линейно, хотя, безусловно, каждая из заявленных тем притягивает произведения разных эпох. В целом на выставке присутствуют очень разные кураторские решения – в некоторых разделах они более радикальные, в некоторых менее. Надо отметить, что кураторы получили полную свободу и вовсе не были обязаны четко следовать идеям Андре Мальро, ограничивая тем самым себя в выборе произведений: так, например, на выставке появилась удивительно сильная группа сосудов «Керамический космос», сформированная Людмилой Ивановной Акимовой. Андре Мальро не писал ничего про сосуды эпохи неолита, но на нашей выставке уникальные объекты культуры Кукутени-Триполье соседствуют с редчайшими древнеегипетскими и древнекитайскими артефактами. И, конечно, деление на разделы предшествовало получению экспонатов из других музеев: все запросы основывались на четком понимании, для какого места в экспозиции предназначена та или иная вещь. Это очень сложная и серьезная работа.
Если на галереях большая часть вещей привозная, то в зале, где проводятся концерты «Декабрьских вечеров», сделан упор на предметы из собственного собрания музея: Эль Греко, Рембрандт, Халс, Гварди, Шарден, Коро. Экспозиция специально так выстроена?
Данила Булатов: Я бы не сказал, что это было каким-то намеренным решением сосредоточить вещи из Пушкинского музея в Белом зале. В каждом разделе выставки задача была многоплановая: с одной стороны, привезти какие-то значимые вещи из-за границы, что всегда сложно, непредсказуемо и зачастую нереализуемо, а с другой стороны, показать вещи из нашего собрания, которые мало экспонируются. Особенно удачным получился раздел «Многоликая древность», после открытия выставки его высоко оценили специалисты. Многие вещи из собрания Пушкинского смотрятся совсем по-другому.

В Белом зале достаточно много «гостей» из других музеев и собраний: из парижских музеев – Гимэ и Музея средневекового искусства Клюни, из государственных музеев Берлина, а также из российских музеев; рядом с экспонатами из Музея Востока висит икона из Музея Андрея Рублева. Присутствие вещей из собственной коллекции музея можно объяснить разными причинами: например, в экспозиции в Белом зале в основном все вещи классические и их подчас сложно получить на выставку, причем даже из российских собраний. Я и сам не раз сталкивался с подобными ситуациями: например, в раздел выставки, который я курировал, мне хотелось взять икону из Третьяковской галереи, но это оказалось невозможным, поскольку она присутствует в постоянной экспозиции и настолько хрупкая, что ее не дали привезти даже из Лаврушинского переулка. Кроме того, конечно, если мы находили подходящий предмет из нашего собрания, то старались взять его, не только чтобы сэкономить, но и потому, что всегда интересно показать даже хорошо известную вещь в новом контексте. Потом посетители приходят, и даже если видели произведения раньше в экспозиции, не узнают, думают, что привезли откуда-то. Вообще очень немногие ходят смотреть постоянную экспозицию и вряд ли многие помнят нашего Эль Греко или Халса, не говоря уже о раннем Коро из экспозиции Галереи искусства XIX-XX веков.
Какие шедевры или просто эксклюзивные работы, участвующие в выставке, привезены в Москву впервые?
Данила Булатов: Специально для этой выставки нам удалось получить значительное количество подлинных шедевров. К ним может быть отнесена, например, знаменитая голова египетской царевны амарнского периода из берлинского Египетского музея; эта вещь, как и «Голова жреца» более позднего периода из того же музея, чуть ли не впервые покинула Германию. Настоящей удачей было получить «Крестьянскую трапезу» Диего Веласкеса из Музея изобразительных искусств Будапешта, так же как и удивительный бодегон Франсиско де Сурбарана из Прадо. Из Праги к нам прибыл выразительнейший Оноре Домье – «Семья на баррикадах в 1848 году», это очень важная вещь для понимания процессов, происходящих в искусстве в XIX веке. Учитывая значение фигуры Андре Мальро для Франции, мы возлагали большие надежды на французские музеи, и они оправдались.
Я бы отметил картину Жана Дюбюффе «Джаз-бэнд» из Центра Помпиду – помимо того, что она принадлежала самому Мальро, эта работа является настоящим символом Сопротивления и манифестом арт-брют; напротив нее экспонируется гигантская маска народности бачам из Музея на набережной Бранли, с которым у нас сложились в последнее время особенно теплые отношения.

Какие разделы выставки вам, как куратору, представляются наиболее удачными?
Данила Булатов: Блок или группа, которая кажется мне очень удачной, условно называется «Ирония и гротеск». В ней хотелось представить линии, которые выдержаны довольно четко: это ирония как категория, которая условно появляется в XIX веке, и гротеск, который появляется раньше, но в XIX веке приобретает совершенно новое звучание: на первый план выходит тема свободы и эмансипации, появляются образы маргиналов, отверженных. На картинах в этой группе в том или ином виде разворачивается тема жизни как карнавала, как называется драматичная работа Гойи, на которой изображена мрачная процессия людей в масках, выходящих из диковинной пещеры посреди города. А завершается тема уже полным снятием масок в картине Тулуз-Лотрека «Клоунесса Ша-Ю-Као» из Музея Орсе: героиней художника становится артистка и открытая лесбиянка, воплощающая идеи свободы и эмансипации, уже одним своим нелепым обликом и экстравагантным костюмом противостоящая лицемерной буржуазной морали, общественным устоям и конвенциям.

В чем вас как куратора и искусствоведа обогатила работа над этим проектом и как вам работалось с Ириной Александровной Антоновой – ведь вы люди не только разных поколений, взглядов, возможно, и вкусов.
Данила Булатов: Работая с Ириной Александровной, нельзя не удивляться ее энергии, редчайшей способности подмечать такие вещи и нюансы, которые другой человек никогда не увидит. В то же время, как и Андре Мальро, она призывает свободнее оперировать произведениями искусства, не привязываться к деталям, понятным только знатокам, смотреть шире – и одновременно глубже. В целом работа над этим проектом стала, мне кажется, для всех нас уникальным опытом внутри-музейного сотрудничества, которое хотелось бы развивать и дальше. Если говорить о разнице поколений, то, конечно, случались и жаркие дискуссии – особенно по поводу современного искусства.
Ирина Александровна прекрасно понимает современное искусство, но не готова ставить его в один ряд с произведениями классиков. Это обстоятельство также очень сближает ее с Мальро.
Андре Мальро до конца оставался верен своим любимым художникам, с которыми познакомился еще в молодости: Пикассо, Браку, Шагалу. Искусство этих художников, как и их великих предшественников – оно существует как бы вне времени, не подвержено моде или старению; именно по этой причине их работы могут вести диалог с произведениями и XVII столетия (на выставке рядом с «Плачущей женщиной» Пикассо представлен офорт Рембрандта «Три креста»), и 28 тысячелетия до н.э. – примерно так датируются палеолитические «Венеры» из Сибири, воплощающие собой самый древний голос собранного в Пушкинском «Воображаемого музея».
Интервью: Елена Рубинова,
© 2017 artandyou.ru и авторы